Кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова уверена, что исчезновение татарского мата — это не победа нравственности, а тревожный симптом вымывания живой речи. Известный фольклорист в интервью «БИЗНЕС Online» объясняет, как брань связана с древними представлениями о теле и сакральности детородных органов, что общего между словами «умай», «кут» и «душа» и почему современные татары ругаются по-русски, не замечая, что вместе с этим теряют часть своей языковой энергии.
 Кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова на фото слева
Кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова на фото слева
Миф о «татарском происхождении» русского мата
— Фанзиля Хакимовна, есть мнение, что татары научили русских материться. Так ли это?
— Такое суждение действительно существует, и оно довольно популярно. Считается, будто русские были очень воспитанными, у них вовсе не было брани. Пришли варвары — монголо-татары, а в их языке якобы было много непристойных слов. И, по мнению сторонников этой теории, русские князья, жившие под их «гнетом», переняли ругательства у «варваров».
Но это не так. И это не мое личное мнение — так считают известные исследователи русского языка. Есть защищенные диссертации, посвященные происхождению русских матерных слов, серьезные научные работы. Это не шарлатаны, а признанные языковеды.
Татарский мат имеет собственные корни. У нас огромное количество собственных матерных слов и выражений, которые к русскому языку никакого отношения не имеют.
Фанзиля Хакимовна Завгарова родилась 20 февраля 1964 года в деревне Туркаш Кукморского района Республики Татарстан.
Окончила филологический факультет Казанского государственного университета (1981–1986).
7 мая 2002 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Татарская литература Астраханского региона в историко-культурном контексте XIX – начала XX века», ученая степень утверждена 18 октября 2002-го.
Работала ассистентом кафедры методики преподавания татарского языка и литературы, преподавала курс «Методика преподавания татарской литературы в русской школе».
С 1997-го трудилась в государственном центре по сбору, сохранению и изучению татарского фольклора, с 2002 по 2011 год — директор центра. После объединения с республиканским научно-методическим центром народного творчества занималась сохранением традиционной культуры, организуя фестивали «Түгәрәк уен», «Идел-йорт», «Уйнагыз, гармуннар» и др.
До 2019 года продолжала научно-методическую работу.
В настоящее время — руководитель проекта «Татар ядкарьләре» («Татарские реликвии»), посвященного сохранению и популяризации традиционной культуры и фольклора татар.
Если говорить шире, мат — это явление универсальное. Ругаются все народы мира, у каждого есть своя бранная лексика. Никто от этого не застрахован: каждое поколение ругалось, ругается и будет ругаться.
Что касается этимологии мата, то он связан с языком табу. С древнейших времен у всех народов темы зачатия, продолжения рода, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной были табуированы. Это считалось сакральным, неприкосновенным, говорить, тем более описывать все это, запрещалось. Мы сейчас деторождение воспринимаем как естественное физиологическое состояние, но раньше это воспринималось чудом, промыслом высших сил. Сами подумайте, как древний человек, не изучавший анатомию, должен был понимать появление нового человека. Сам процесс зачатия ребенка также считался таинством. Поэтому слова, обозначающие детородные органы, во всех языках были табуированы.
У каждого этноса есть свои выражения, произнесение которых вслух считалось разрушением культурных рамок, закрепленных традициями социума. Если человек все же говорил такие слова, он как бы выходил за пределы культурности, воспитанности, переставал подчиняться нормам — и тем самым нарушал порядок, правила, принятые социумом.
В этом и заключается суть мата: он всегда связан с разрушением культурных границ. Бескультурных народов не бывает — каждый этнос культурен по-своему. Культура закреплена в традициях, где четко различается: что хорошо и что плохо, что дозволено, а что — нет.
Кут-кот: и доброе пожелание, и бранное слово
— А если мы посмотрим в этимологию матерных слов…
— Эти запреты по своей сути очень близки к проклятиям. Слова-проклятия существуют во всех языках мира — это тоже универсальное явление. И мат, и проклятия принадлежат к одной запретной сфере.
Когда-то я с коллегами изучала фольклорно-этнографические материалы, опубликованные в дореволюционных журналах на русском языке. Мне было особенно интересно наблюдать, как исследовались тюркоязычные народы. Конечно, все это делалось прежде всего ради практической цели — ускорить процесс христианизации. Это середина – вторая половина XIX века, когда этим занялись уже основательно: создавались алфавиты, фиксировались естественные верования, мифологические представления.
Особенно меня заинтересовало представление о «кот-кут» у якутов, хакасов, минусинских и абаканских татар (ныне — тувинцев). У всех этот образ присутствует. Лексема «кут» обозначает некую жизненную субстанцию, которая делает человека человеком.
У татар есть выражение, связанное с этим понятием, — «ак кут» («белый кут»), где слово «ак» («белый») несет не только значение чистоты, но и магической силы. Это восходит к патриархальному мировосприятию, когда род стал определяться по мужской линии, а мужской половой орган воспринимался как символ продолжения рода и человечества. Как раз его и наделяли сверхсилой, таинственностью.
В быту это слово не употребляли, но в определенных сочетаниях оно становилось бранным. Например, если в коммуникативном акте, то есть в процессе общения, один из собеседников своим действием или же словом раздражает, в качестве предупреждения ему могли сказать: «Сейчас получишь по „белому куту“», то есть словесный сигнал о предельности терпения, о его границе: дальше раздражитель может получить такое ответное действие. В данном случае матерное слово выступает в функции предупреждения.
Я не считаю, что эти слова существовали и существуют исключительно в матерной речи. Нет. Со временем они были сексуализированы и оказались в зоне табу. Когда человек употребляет мат, он демонстрирует, что вышел за пределы воспитанности, культурности. Это сознательное нарушение границ — сигнал, что человека довели до предела, где следующий шаг уже драка.
— Слово «кот» же активно живет в языке. Например, в выражениях: «Котлы булсын туегыз!» («Пусть ваша свадьба будет с котом»), «Котым очты!» («Мой кот улетел — сильно испугался»). Что здесь подразумевается?
— Для тюрко-татар «кот» — это некая безликая субстанция, которая существует, можно сказать, живет внутри человека. Она не статична, а очень динамична. Она может покидать тело своего хозяина и возвращаться обратно. Считалось, если «кот» покинул своего хозяина из-за внезапного испуга, он может и не вернуться. Тогда человек заболевает, его покидает жизненная сила, он начинает заикаться, становится вялым. В данном случае прибегают к лечебным заговорам и совершают определенные ритуалы, направленные на его возвращение в тело. Эти заговоры называются «кот кою», «кот кайтару». При этом пили отвары, произносили заклинания, чтобы вернуть утраченные силы.
Если «кот» внутри своего хозяина, то этот человек живой, сильный; если уходит — он теряет гармонию, становится нервным, не может совладать с собой.
— То есть это душа?
— Не совсем. Душу мы называем другим словом — «җан». Думаю, что в более ранние времена древнейшее понятие «кот» частично было заменено словом «җан». Если душа уходит — тело безвозвратно мертво. А кот может уйти и вернуться, он еще может уйти к пяткам, оставаться там, но во всех случаях человека можно вернуть к жизни. Вероятно, в древности так и воспринимали: человек может жить без «кота», но недолго — его нужно было вернуть.
— Когда человеку желают добра, ведь тоже используют «кот»?
— Да. Когда говорят: «Йортыгыз котлы булсын!» — это благопожелание: пусть жизнь домочадцев будет «кутлы», то есть гармоничной, полной. У нас выражений с котом множество: платье может быть «котлы», Новый год — «котлы». Это форма благопожеланий, по сути, означающая: «Пусть кот не уходит, пусть в доме будет благополучие». Эти слова — часть повседневного, теплого, домашнего татарского языка.
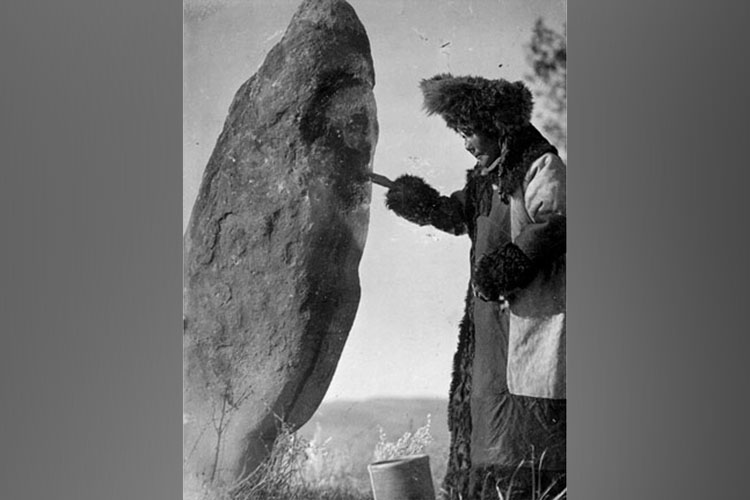 «У татар есть мифологический персонаж Умай — древний образ, связанный с продолжением рода. У башкир он тоже встречается, но с другими смысловыми оттенками. В татарских представлениях Умай покровительствует рождению, материнству, детям»
«У татар есть мифологический персонаж Умай — древний образ, связанный с продолжением рода. У башкир он тоже встречается, но с другими смысловыми оттенками. В татарских представлениях Умай покровительствует рождению, материнству, детям»
Умай: священное имя, ставшее запретом
— Разобрались с «котом». Слова, образованные от одного корня, могут быть и матом, и добрыми пожеланиями… А какие еще слова превращаются в мат?
— Для всех народов, особенно для мусульман и, конечно же, для татар, мать — существо священное. Поэтому применение матерного словосочетания, где один собеседник другому говорит о совершении полового акта с его матерью, — это жестокая угроза, нарушение всех дозволенных границ. Это маркер полного разрушения традиционных ценностных ориентиров, катастрофа для обоих собеседников. Вообще, для традиционной культуры татар не то чтобы совершать, но и говорить о половом акте с матерью жестко табуировано. Тот, кто произносит подобное, выходит за пределы дозволенного и фактически вычеркивает себя из социума.
Но все равно такие слова существуют, их произносят, ими до сих пор пользуются. Однако подчеркну: во всех культурах люди, которые позволяют публично выражаться, считаются невоспитанными, они «вне культуры».
— Мы говорили о сакральности мужских половых органов и их номинациях. А женские?
— Конечно, женские тоже табуированы. У татар есть мифологический персонаж Умай — древний образ, связанный с продолжением рода. У башкир он тоже встречается, но с другими смысловыми оттенками. В татарских представлениях Умай покровительствует рождению, материнству, детям.
И вот женский половой орган в татарском языке также связывают с этим образом. В экспедициях мы фиксировали, что в некоторых деревнях матку называли «умай». Повитухи, например, говорили: «Умай урынына кайтырга тиеш» — «Умай должна вернуться на место». После родов в течение 40 дней женщине делали массаж, чтобы матка восстановила свои функции. Так вот, видоизмененное название Умая стало запретным словом.
Есть и материальные следы древних представлений. В декоративно-прикладном искусстве часто встречаются геометрические орнаменты, которые символизировали женское начало. Например, ромб — знак плодородия и материнства. На свадебных полотенцах такие мотивы вышивались как оберег. У тюркских народов ромб встречался и на застежках женских камзолов. Эти короткие стеганые безрукавки украшались ромбовидными застежками на уровне живота и пупка — символ сохранения фертильности, продолжения рода.
Так язык, мифология, быт и орнамент переплетались, сохраняя древние представления о теле, плодородии и сакральности женщины.
 «При детях, девушках, женщинах, особенно при матери, произносить матерные слова было категорически запрещено»
«При детях, девушках, женщинах, особенно при матери, произносить матерные слова было категорически запрещено»
«Чтоб тебя пчела ужалила»: народные заменители табуированных слов
— А почему люди матерятся? Если это запрещено…
— В целом мат, как и весь лексический состав языка, живет и функционирует только в рамках коммуникативного акта, то есть в рамках общения. Что касается функционального поля мата, то оно в речи употребляется либо как предупреждение, либо для эмоциональной разрядки. Человек — существо раздражающееся. У нас много рецепторов, раздражив которые, мы выходим из себя. Чтобы снять внутреннее напряжение, человек прибегает к брани, то есть начинает разрушать рамки дозволенного.
И вот здесь я восхищаюсь народной культурой. Народ, в нашем случае татарский, сумел придумать десятки завуалированных выражений, вроде бы отсылающих к мату, но не нарушающих табу. Эти слова использовались именно в моменты резкого эмоционального напряжения как «безопасный и культурный» способ выплеснуть раздражение.
Вот пример. Столяр работает — и вдруг топор соскальзывает с сучка. Он сердится, но понимает, что сам виноват — сучок-то не заметил. В этот момент с языка срывается ругательство — способ снять злость и досаду. Если в это время рядом с ним присутствует женщина или же ребенок, даже если подросток, то столяр в данном случае будет употреблять другое слово, например «яббаллак» (дословно «сова»), которое никакого отношения к бранной лексике не имеет, но по своему звучанию тут же отсылает к русской бранной лексике. Арсенал таких заменителей в татарском языке внушительный.
Муж моей тетки, которого мы звали җизни, часто брал нас, подростков, на пасеку. Качка меда — дело хлопотное: пчелы жалят, соты падают, медогонка ломается. И вот он, уже на пределе, хотел выругаться, но сдерживался. Вместо мата часто говорил: «Чтоб твою маму пчела ужалила!», «Чтоб пчела тебя в рот ужалила!», «Чтоб у тебя во рту все кипело!»
Для татар смысл был прозрачен, мы понимали, какое бранное выражение он имеет в виду. На русский язык эти выражения невозможно перевести — они теряют смысл. В данном случае җизни эти выражения употреблял не для предупреждения, не в качестве угрозы, а чтобы разрядить себя эмоционально.
При детях, девушках, женщинах, особенно при матери, произносить матерные слова было категорически запрещено. Народная культура выработала свои формы приличного «выпуска пара».
Тот же җизни, например, мог сердито воскликнуть: «Яп башыңа!» («Прикрой голову», «Надень на голову»). И все, на этом его гнев иссякал. И при этом он это словосочетание говорил таким же тоном, как будто произносит бранное слово.
Таких изящных заменителей в татарской речи существовало множество. Вместо грубого слова использовались особые словесные конструкции — мягкие, иногда даже шутливые.
Одна знакомая рассказывала, что в 70–80-е годы жила у хозяйки, чей отец в начале прошлого века был кучером. Когда он сердился на лошадь, ругался не грубо, а с выдумкой: «Чтоб твой хозяин проиграл тысячу рублей!» Это было не бранное слово, а скорее проклятие, но эмоционально выполняло ту же функцию.
Вот почему я всегда подчеркиваю: у татар мат и проклятие не параллельные явления. Они пересекаются, близки по смыслу и эмоциональной нагрузке.
— У татар особенно страшным проклятием считается «Чукынып кат!» — «Умри крещеным!» Это отголосок истории татар?
— Да, от времен насильственной христианизации.
Иногда встречается и выражение «кире тэре» — буквально «упрямый крест». Такие формулы сохраняют в себе следы тех времен, когда религиозная идентичность была вопросом жизни и смерти. Проклятия у татар несут не только эмоциональную, но и историко-культурную память.
«Татары никогда не занимались сексом?!»
— Ренат Ибрагимов любил шутить, что слово «секс» якобы татарское, потому что есть очень похожее матерное слово на татарском языке.
— И правда, различается всего один звук — совпадение это или нет, сказать трудно. Но мы знаем, когда слово «секс» появилось в нашей речи в позднесоветское время. Помните легендарный телемост СССР – США, где прозвучало: «У нас секса нет»?
— И покойная Альмира Адиатуллина как-то сказала: «Татары никогда сексом не занимались!»
— И в этом, как ни странно, есть доля истины. У татар все, что связано с телесностью и продолжением рода, было табуировано. Половой акт назывался словом, близким по звучанию и смыслу к «сөю» — «любить». Это слово находилось в разряде табуированных, сакральных.
То есть, в отличие от грубого обозначения, в народной традиции сам процесс осмыслялся как часть любви — нечто не постыдное, но запретное для открытого произнесения.
У Марселя Бакирова в серии «Тайна происхождения тюрков» подробно разбираются подобные фольклорные термины, особенно те, что связаны с человеческим телом. Он показывает, как слова, обозначающие одни и те же органы, перекликаются в разных языковых семьях. Поэтому, возможно, и догадка Рената Ибрагимова не лишена оснований, но для уверенных выводов нужны серьезные сравнительные исследования.
Я знакома с ностратической теорией, которая допускает древние перекрестные корни между языками, поэтому не исключаю, что пересечения действительно есть.
— Может быть, что татарское матерное слово произошло от «сөешү» — «любить друг друга»? Ведь в татарском языке наблюдается чередование согласных?
— Таких академических исследований я не встречала. Возможно, они существуют, но мне неизвестны. Фонетически замены фонем действительно бывают. В литературе начала XX века «сөю» употреблялось в возвышенном значении — «любить». Но сказать, что это одно и то же слово, я не могу. Они близки по звучанию и смыслу, но не тождественны.
— Иногда выдвигаются и другие любопытные гипотезы. Например, будто одно матерное слово произошло от тюрко-татарского слова «фисташки», а самое распространенное русское ругательство — от слова «куй» («баран»). Поскольку баран считался табуированным животным у последователей культа Тенгри, слово стало неприличным.
— Я первый раз слышу такую версию — возможно, и домысел, но людям всегда хочется найти красивое объяснение.
— Писатель Туфан Миннуллин как-то заметил, что татары употребляли в пищу только тех животных, у которых есть шерсть, и рыбу — только с чешуей. В языке тоже встречаются «волосяные» образы: «Башымны ашадылар» — «Съели мою голову», то есть уничтожили человека. Есть и матерное выражение вроде «не жуй тот самый орган» — и там тоже «растут волосы».
— Это не случайно. У нас к шерсти особое отношение. Шерсть у татар — часть очистительной магии. Относится к разряду сильных оберегов. Поэтому мы невесту у ворот жениха встречаем со словами «Төкле аягың белән кил» (дословно «Приходи с волосатыми ногами») и у порога перед ней разворачиваем шубу наизнанку, то есть мехом вверх, чтобы она наступила на шерсть. Считалось, что шерсть защищает домочадцев жениха от всякой нечистой силы и очищает невесту. Волосы у женщин — тоже уязвимая часть: их прятали в специальные мешочки-украшения — чачкап (дословно «коробка для волос»).
У татар еще был обычай: молодуха во время беременности носила шерстяную веревку, повязанную вокруг живота, в качестве оберега детского места, то есть матки.
В обрядах тоже присутствует шерсть. Например, в селе Кошкино (Кукморский район) сохранился предсабантуйный обрядовый праздник Сорэн сугу, где главные действующие лица — рекруты. Суть обряда заключается в сборе подарков для Сабантуя. Раньше Сабантуй проводился перед началом весенне-полевых работ. Так вот, рекруты, они же собиратели подарков, во время совершения данного обряда, несмотря на весну, то есть на гряз и пыль, обход домов совершали в валенках. Жители деревни объясняют это по-своему, указывая на видимую прагматичность, «чтобы ноги сборщиков подарка на протяжении 15 часов совершения обряда не уставали». На самом деле мифологическая суть этих валенок совсем в другом. Рекруты, обходя деревню в шерстяных валенках, совершают еще и ритуал очищения земли, которая в скором времени примет зерна, от всякой нечисти.
Даже такие детали, как шест Сабантуя, исследователи связывают с фаллической символикой. Не все, конечно, доказано, но почва для размышлений богатейшая: в каждой детали можно увидеть следы древнего сакрального восприятия частей человеческого тела и самой жизни.
 «Я однажды даже спросила у знакомой: «На каком языке ты сейчас материшься?» Она удивилась: «Ну на татарском же!» Хотя, по сути, это был русский мат, «переодетый» в татарскую грамматику»
«Я однажды даже спросила у знакомой: «На каком языке ты сейчас материшься?» Она удивилась: «Ну на татарском же!» Хотя, по сути, это был русский мат, «переодетый» в татарскую грамматику»
Раньше матерились по-татарски, а сегодня — по-русски
— Почему, по-вашему, сегодня стало так много мата? Мы тоже матерились, но мат считался матом, а сейчас подростки на мате разговаривают, девушка подругу может послать на три буквы, и подруга не обижается, воспринимает как обычные слова.
— Думаю, это следствие разрушения многих социальных институтов, нарастания раздражения в обществе, неуверенности в завтрашнем дне. Факторов очень много. Раньше существовали рамки «воспитанности» — семейные, общественные. Глава семьи не позволял себе материться при матери или дочерях. Только пьяницы могли ругаться при женщине. А теперь молодежь может материться даже при родителях.
Эти нравственные шлюзы исчезли. Мат стал частью обыденной речи. И на мой взгляд, это показатель снижения культурного уровня. Люди меньше читают. Нет ориентиров, мы через книги проживали жизненные ситуации, через них себя готовили к жизни. В конце 90-х стали модными сериалы о бандитской среде. Там мат — часть их реального мира. Когда все это стало транслироваться через экраны, разрушились рамки воспитанности, мат стал восприниматься не зазорным, а обыденным явлением, скажу больше, естественным выражением человеческой сути. Телевидение, интернет, кино, блогеры — все это формирует среду, где мат звучит как норма. У нас несколько татароязычных блогеров, которые культивируют мат. Думаю, это отражение реальности и не более.
— Раньше рамки были другими?
— Совсем. Я до сих пор помню один случай из своей жизни. Как-то я, будучи студенткой второго курса университета, возвращалась домой. Иду по улице нашей деревни и прохожу мимо ворот двоюродного брата папы. Я поздоровалась и прошла дальше. А он закричал: «Чья ты дочь? Студенткой стала, человеком стала, а родню не узнаешь?»
Дома отец меня сильно отругал: я должна была не просто поздороваться, а подойти, спросить, как дела. Таковы были правила общения с деревенской родней. Я их не нарушила, но и не последовала им. Это был урок на всю жизнь. Казалось бы, мелочь, но как раз они и соткали ткань моей «воспитанности». Это и есть семейные и общественные «шлюзы», переступать через которые было нельзя.
— Какие тенденции, связанные с татарским матом, вы наблюдаете?
— Как филологу мне вообще интересно смотреть, как живет язык, какие процессы в нем идут. Что касается мата в татароязычной среде, я не могу сказать, что это меня раздражает или пугает.
Раньше ругались, в том числе и матерились, в основном на татарском. Многие не любят, когда я говорю, что это тоже часть языка, но это так. Это часть нашей речевой системы, наследия, ведь оно дошло до нас через тысячелетия.
Факт остается фактом: сегодня мы очень много используем русский мат. В молодежной среде татарского мата практически не существует. Люди среднего возраста нередко используют гибридные формы. Особенно заметно это за рулем: кто-то подрезал, кто-то проехал неправильно — и слышишь русский мат с татарскими окончаниями.
Я однажды даже спросила у знакомой: «На каком языке ты сейчас материшься?» Она удивилась: «Ну на татарском же!» Хотя, по сути, это был русский мат, «переодетый» в татарскую грамматику.
И это меня немного беспокоит: наши собственные слова уходят из быта. А ведь это часть языкового состава. Например, существовал красивый татарский термин для обозначения мошонки — на русском это слово звучит как «белый камень». В татарском языке сначала идет «камень», потом определение. Очень поэтичное слово. Но сейчас его почти не услышишь — оно ушло вместе с поколением наших родителей.
— Но ведь «мошонка» в русском нормальное, не матерное слово. Почему татарское считается грубым?
— Потому что у татар не сформировалась собственная медицинская терминология, где употреблялись бы подобные номинации. Врачи объясняли все по-русски, и в татарском языке просто не появилось официальных терминов.
— Получается, что на русском «мошонка» — медицинский термин, а татарский аналог воспринимается как мат.
— Мы сами сознательно «чистили» язык. Хотя если бы кто-то составил словарь на основе, скажем, исследований Наки Исанбета, там наверняка были бы такие слова. Они живут в речи, это естественно. Но их не допускают в словари — из-за узости мышления и недостатка эрудиции.
— Значит, такие слова нужно фиксировать?
— Конечно. Они должны быть в толковых словарях. Это живые слова, часть корпуса татарского языка.
— А как фиксируется русский мат в научных исследованиях?
— Сегодня уже есть защищенные диссертации, утвержденные ВАК, опубликованы книги. В них матерные слова приводятся, но обычно записаны латиницей. Это сделано специально: все читаемо и понятно, но визуально мягче.
Обязательно даются пояснения — откуда слово, что оно означало, какие есть параллели в древнеславянском или других языках.
— То есть это все еще табу?
— Да, табу. Но в научном контексте эти слова изучаются всерьез: целые параграфы посвящены обозначениям мужских и женских половых органов, со всеми историческими и семантическими подробностями. Это часть языка и культуры, которую невозможно игнорировать.
— А татарский мат тоже нужно исследовать?
— Обязательно. Запрещать изучать неправильно. В СМИ мат запрещен, но ведь у нас есть слова вроде «хрень» — они звучат повсюду: и на телевидении, и в интернете. Табу размываются.
 «Лексический состав языка вымывается семимильными шагами. Молодое поколение даже не знает татарских ругательств»
«Лексический состав языка вымывается семимильными шагами. Молодое поколение даже не знает татарских ругательств»
Почему ругательство на татарском звучит обиднее, чем на русском
— Вот такая странность есть. Материться на русском вроде как невежливо, но все же допустимо. А если татарин выругался на татарском, это воспринимается куда жестче. Если «послали» на русском — ну и ладно. А вот на татарском — можешь и получить по щам. Почему так?
— Потому что национальные «шлюзы» еще работают. Ругательство на русском звучит привычнее, оно не так ранит, это же не мои слова, генетические коды они не затрагивают. А вот на родном языке обиднее, словно «удар ближе к сердцу». Здесь ментальные поля работают. Поэтому среди татар такие слова до сих пор могут спровоцировать серьезный конфликт.
В моем поколении, рожденном в 1960-е, это чувство было еще живее. Тогда ругались по-татарски. А сегодня — почти исключительно по-русски. Татарский мат постепенно уходит.
— То есть исчезновение брани — это признак того, что язык вымирает?
— Да. Вернее, лексический состав беднеет, сжимается. В повседневной речи татарских слов становится все меньше.
Особенно это заметно в деревнях. Берут интервью у фермеров или работников сельского хозяйства — они уверены, что говорят по-татарски, но на деле 50 процентов слов — русские. Например: «Без зябка полностью сөреп бетердек. Урожай әйбәт быел». Так говорят в селе. А в других сферах — тем более!
Лексический состав языка вымывается семимильными шагами. Молодое поколение даже не знает татарских ругательств. Люди, рожденные после 2000-х, уже почти не владеют этим пластом. А то, что знали наши бабушки, можно сказать, осталось в прошлом.
— Есть выражения, которые не мат, но звучат грубовато.
— Конечно. Таких фразеологизмов много. Народ был наблюдательным, изобретательным. Вот, например: «Эт сигәнче алып килде — Пока собака мочилась, уже все принес» — так говорили про проворного человека.
— Но ведь таких выражений почти нет в словарях?
— Есть, но мало. Особенно тех, что связаны с физиологией человека. А ведь это целый пласт, и он постепенно исчезает. Фразеологизмы уходят катастрофически быстро.
Главная причина — уход инструментов естественной передачи традиций, в том числе и этой лексики. Чтобы язык оставался живым, нужна среда.
Чтобы как-то создавать эту, пусть достаточно искусственную, среду, я со своей командой запустила проект «Татар ядкарьләре» («Татарские реликвии»). В рамках данного проекта мы принципиально все пишем только на татарском. Нам часто говорят: «Сделайте на русском — будет больше аудитории». Но мы прекрасно понимаем, что очень многие явления татарской традиционной культуры живут и существуют только в своей родной языковой среде. Если будем их переводить на русский язык, то уничтожим саму речевую среду.
Чтобы сохранить эту среду, умышленно придумываем разные форматы. Например, раз в две недели, по воскресеньям, публикуем рисунок и спрашиваем подписчиков: какой фразеологизм к нему подходит? Мы рисуем, подразумевая один фразеологизм, а люди к нему находят еще 5–6 вариантов. Это потрясающе — видеть, как же все-таки работает у народа память. Тем самым мы находим возможность фиксировать новые фразеологизмы.
Но в нашей деятельности есть и тревожные моменты: основная наша аудитория — это люди возраста 40–60 плюс. Молодежи почти нет. И вот главный вопрос: что делать?
— Что же делать? Детей учить татарскому мату?
— Нет, конечно. Речь не об этом. Уход языка вызван отсутствием не воспитания, а сфер применения.
Чтобы татарские слова для обозначения тела и физиологии оставались в обиходе, нужно, чтобы они жили в языке — в учебниках анатомии, медицинской практике, традиционных ритуалах.
Иначе даже древнейшие, исконные слова уходят просто потому, что исчезает повседневное пространство, где их можно употреблять.
Проект «Татар ядкарьләре»
— Вы поэтому начали проект «Татар ядкарьләре»?
— Да. Наше сообщество называется «Татарские реликвии». Идея появилась, потому что у меня накопилось очень много материала — им хотелось поделиться. Это ведь уходящая культура. И оказалось, что эти темы интересны не только мне.
Сто лет назад тоже говорили, что культура исчезает. Тогда тоже собирали — записывали, фиксировали. Татарская элита понимала, что это важно. Вот Каюм Насыри — зачем он собирал фольклор? Чтобы сохранить и опубликовать. Это нужно делать постоянно: собирать, хранить, делиться.
Каждый день подкидывает новые поводы. Например, задумываемся: а что делали татары в день осеннего равноденствия? Любое явление традиционной культуры можно связать с современностью, если уметь смотреть. Социальные сети здесь стали настоящим помощником.
Так и появилось сообщество. У меня есть команда единомышленников — нас немного, но всем это интересно. Мы не стремимся к широкой популярности, зато у нас есть своя аудитория, которая ждет наши публикации. Тем огромное количество, всех не охватить. Мы сами учимся, обсуждаем, спорим, восхищаемся.
«Татар ядкарьләре» — это площадка, которая помогает читателям открыть для себя то, о чем они, может быть, никогда не задумывались. Ведь традиционная культура — в каждой клетке повседневной жизни. Она живет в языке, привычках, жестах, словах, которые мы произносим.
Первый пост мы опубликовали 13 апреля 2021 года. С тех пор у нас десятки тысяч подписчиков. Для нас это настоящая отдушина, которая приносит радость и пользу. Мы не только делимся знаниями, но и создаем вокруг языка живую среду.
Например, проводим интерактивы: берем песенный текст, убираем несколько слов и предлагаем подписчикам восстановить их. Это всегда вызывает восторг. Мы радуемся и гордимся, когда видим, что народ жив, что язык не исчезает.
«Татар ядкарьләре» — это наша маленькая миссия. Мы надеемся, что она послужит на пользу татарскому языку. Некоторые темы живут у нас по два года — например татарские имена, традиционные костюмы. У нас есть мечта: издать самые интересные циклы отдельными книгами — с иллюстрациями, как настоящее исследование.


Комментарии 39
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.