Поздно вечером накануне праздников минфин и минэкономразвития РФ скромно поделились с россиянами своими отчетными цифрами и прогнозами. Падение наблюдается примерно во всех областях — от добычи полезных ископаемых до грузоперевозок. Однако благодаря росту в обрабатывающей промышленности в целом экономика страны в плюсе. О том, каким образом, несмотря на падение стоимости нефти, власти планируют добиться экономического роста в 2,5%, а также замедлить инфляцию до 4,5% при опережающем росте той же «коммуналки», — в блоге экономиста Александра Виноградова, написанном для «БИЗНЕС Online».
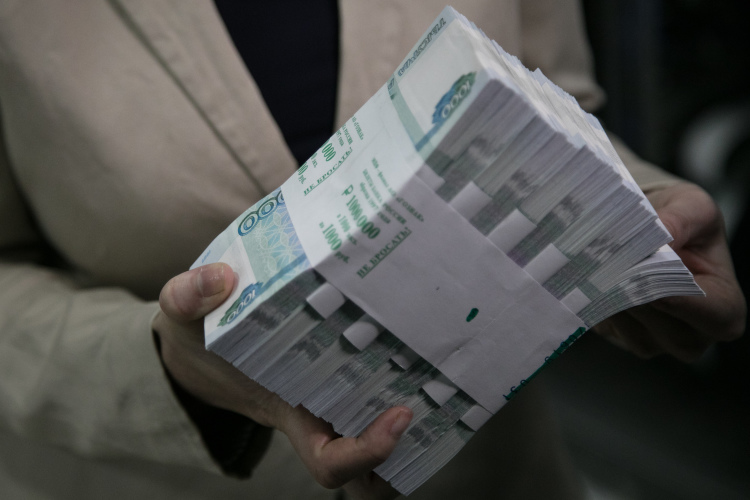 «Предполагается, что военные расходы государства могут выступать как форма фискального стимулирования, увеличивая занятость, спрос и экономический рост»
«Предполагается, что военные расходы государства могут выступать как форма фискального стимулирования, увеличивая занятость, спрос и экономический рост»
О «военном кейнсианстве»
Это так трогательно, когда неприятные статистические данные выходят поздно вечером и накануне выходных. Типа что надо, сделали, но так, чтобы никто не увидел. А еще чтоб новая повестка задвинула старую, и этого типа не было, при этом формально все ровно и аккуратно.
Речь идет о двух вещах — о новом прогнозе минэкономразвития и свежей сопутствующей ему бюджетной корректировке минфина уже на текущий год. Это, кстати, к вопросу о валидности прикидок трехлетнего бюджета, подававшегося в свое время как некоего рода возврат к такой привычной и замечательной политике советских пятилеток — планирование же, государственное, не кабан чихнул. Впрочем, это частности, сначала немного о термине «военное кейнсианство».
Военное кейнсианство — это экономическая концепция, основанная на идеях величайшего экономиста XX века Джона Мейнарда Кейнса, с акцентом на роль военных расходов как инструмента стимулирования экономики. Сам термин появился в середине XX века, особенно активно он использовался во время холодной войны. Он основан на идеях Кейнса, изложенных в его «Общей теории занятости, процента и денег» (1936). Хотя сам Кейнс не писал специально о военных расходах как решении, он выступал за государственные инвестиции в целом. Первое широкое применение концепции наблюдалось в США во время Второй мировой войны, когда гигантские военные расходы помогли вывести страну из Великой депрессии.
Теория здесь проста как топор. Предполагается, что военные расходы государства могут выступать как форма фискального стимулирования, увеличивая занятость, спрос и экономический рост посредством следующего механизма:
- Государство наращивает военные расходы — закупает оружие, строит базы, финансирует исследования.
- Это создает рабочие места и заказы для промышленности.
- Работники и подрядчики тратят доходы, усиливая потребительский спрос.
- Повышенный спрос способствует росту всей экономики, даже в мирных секторах.
 «Треть расходов бюджета-2025 идет по статье «Национальная оборона», и это не считая затрат на прочих силовиков»
«Треть расходов бюджета-2025 идет по статье «Национальная оборона», и это не считая затрат на прочих силовиков»
Треть расходов бюджета-2025 идет по статье «Национальная оборона»
Собственно говоря, ровно это и наблюдается в России с 2022 года. Внешний шок для экономики, вызванный введением санкций и потерей части рынков сбыта, был нивелирован за счет двух вещей. Правительство действительно сделало самое умное, что можно было сделать. Во-первых, заметно снизило свою регуляторно-контролирующую активность, особенно в секторах, связанных с организацией параллельного импорта (проще говоря, контрабанды), и, во-вторых, резко нарастило расходы в секторах, связанных с проведением СВО.
И этот механизм действительно сработал! Спад экономики страны в 2022 году составил всего 1,2% (изначально 2,1%, но позже Росстат уточнил эти данные), а 2023-й и 2024-й ознаменовались ростом на 3,6 и 4,3% соответственно. В общем, все бы хорошо, но тут есть определенные нюансы.
Надо понимать, что никакого фронтального экономического роста в таких условиях не происходит, а происходит определенная мутация экономической системы. С одной стороны, правительство вваливает деньги в избранные отрасли («производство готовых металлических изделий без учета машин и оборудования») и тем, кто эти изделия эксплуатирует, что разгоняет экономику.
С другой стороны, рестриктивная политика ЦБ этот самый разгон тормозит, да еще и с запасом. Российские реальные ставки кредитов и депозитов (опять же относительно официальной инфляции) сейчас чуть ли не самые большие в мире. Все так, но говорить об «экономике вообще» сейчас несколько бессмысленно, задачи поставлены иные. И алгоритм решения этой задачи выглядит примерно так:
- Деньги в огромном количестве вливаются в избранные отрасли и избранные карманы: треть расходов бюджета-2025 идет по статье «Национальная оборона», и это не считая затрат на прочих силовиков;
- В сторону избранных отраслей и акторов идут ресурсы, ведь у них есть эти самые огромные деньги;
- Далее, потребительские отрасли закономерно страдают от их нехватки, падает выпуск, растут цены, но избранные могут себе это позволить, а неизбранные нет;
- Импортом это тоже не закрывается — санкции (которые когда-то были на пользу — помните такое время?), грусть и тоска с проведением платежей (переход в оплате на нестабильный рубль — не от хорошей жизни) и унылый бартер.
Минэкономразвития осенью прошлого года даже выпустило посвященную бартеру методичку, где упоминаются закрытые сделки, открытые (многосторонние) и даже толлинг, по схеме которого в 90-е годы из страны было выведено огромное количество денег, так и не посчитанное до конца. И вот к этой истории предлагается вернуться.
Экономический рост на фоне падения добычи полезных ископаемых, производства энергии и грузооборота
Собственно, вот и вся нехитрая схема анонсированной «структурной трансформации экономики» в «мобилизационную экономику».
Кроме того, у самой этой схемы «военного кейнсианства» есть пределы. Связаны они не только с ресурсами как таковыми и их исчерпанием (в конце концов, у государств всегда есть эмиссия разной степени завуалированности), но и с пределом соответствующих мощностей как таковых. Грубо говоря, «нарастить выпуск» совсем не равно «поставить новый завод». И вот с ростом выпуска предел уже недалеко, а первые звонки экономического торможения стали наблюдаться еще под конец 2023 года.
Что есть в отраслях сейчас?
Обрабатывающая промышленность выросла на 18% за три года, и темпы прироста, составляющие сейчас 4,3% по итогам марта, быстро замедляются. Все остальное в промышленности снижается, падает добыча полезных ископаемых (минус 4% по итогам марта), вниз идут и инфраструктурные блоки — производство электроэнергии и тепла, а также водоснабжение, сбор и утилизация отходов. Падает, хоть и слабо, грузооборот транспорта, при этом конкретно по железным дорогам грузооборот находится на уровнях 2017 года. Впрочем, более-менее стабильно выглядят сельское хозяйство и ретейл, а также строительство.
Еще раз: это ситуация на текущий момент. Минэкономразвития при этом теперь ожидает экономического роста на 2,5% (того самого, общего, для сравнения: ЦБ РФ не дает более 2%), при этом стоимость барреля Urals будет около $56, что ниже на 20% предыдущих оценок осени прошлого года, курс рубля при этом почти не изменится, составив по итогам года 94,3 за $1 вместо прежних 96 рублей. При этом инфляция замедлится к концу года до 4,5% и в дальнейшем до целевых 4%, и это при опережающей индексации тарифов — так, в этом году «коммуналка» подрастет с 1 июля на 11,9%, электроэнергия — на 12,6%, газ — на 10,3%. Как при этом ожидается снижение инфляции — тайна сия велика еси.
Дефицит бюджета — 3 трлн рублей
Ну и бюджет. Нет, обошлось без секвестра. Сейчас траты, наоборот, вырастут, т. е. резкие расходы в начале года, вроде как обусловленные авансированием бюджетных платежей, не уникальны, выравнивания к концу года не будет. Доходы будут ниже на 1,8 трлн рублей, из них нефтегазовые упадут на 2,6 трлн, а ненефтегазовые, наоборот, будут увеличены на 0,8 трлн рублей. Как и за счет чего — не очень понятно. Кроме того, стоит помнить, что они не являются независимыми друг от друга: экспортер, получив меньше денег, может сделать меньше своих заказов и меньше заплатить своим подрядчикам. Расходы вырастут на 0,8 трлн, таким образом, дефицит расширится на 2,6 трлн рублей, т. е. более чем утроится с изначальных 1,2 трлн рублей. При этом за треть года дефицит уже составляет около 3 трлн рублей, так что и эти самые обещанные 3,8 трлн вполне могут быть превзойдены. Денег при этом на остаток года вполне хватит, можно «доесть» ФНБ и как-то разместить госдолг.
Но ситуация усугубляется внешними факторами. Ладно там качели — то ли впереди соглашение и снятие санкций, то ли их усиление. Есть и другая проблема: в июне страны ОПЕК+, как предполагается, нарастят добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, что втрое больше изначально заложенного повышения. Как сообщается, организация изменила стратегию поведения, поскольку Саудовская Аравия «устала от перепроизводства» таких стран, как Казахстан и Ирак, и решила «дисциплинировать» их, создав финансовую напряженность через падение цен на нефть. В пределе (и при отсутствии эмбарго на российскую или иранскую нефть) это может привести к среднесрочному падению цен до уровня $50 за баррель Brent, что устроит даже американских сланцевиков, поскольку будет все еще выше себестоимости добычи. Впрочем, до этого надо еще дожить.
Итоговая картинка выглядит предельно странной, как попытка пришпорить объективно тормозящую экономику, усилить накопленные искажения ради более благостной «общей картинки». Причем пришпорить явно инфляционным образом — и через вливание денег, и через рост тарифов, и текущее удержание курса рубля на тонком рынке вполне может при сокращении валютной выручки попросту сорваться, что также добавит инфляции. Долговременно же условия могут обернуться похожими на те, что были в 80-е годы прошлого века, разве что с поправкой на куда большую рыночность современной российской экономики, т. е. ее долговременную устойчивость, полноценно отработавшую в 2022-м.
Впрочем, заранее напрягаться тоже не очень мудро. Ситуация сейчас, если брать ожидания, меняется каждую неделю, а то и чаще. Посмотрим, как она будет развиваться в дальнейшем.
Комментарии 6
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.